Украина — не модель для победы в войне инноваций
Украина — не модель для победы в войне инноваций
Goncharuk V. Ukraine Isn’t the Model for Winning the Innovation War // War on the Rocks, 12.08.2025, https://warontherocks.com/2025/08/ukraine-isnt-the-model-for-winning-the-innovation-war/
Перевод ЦАСТ
В течение нескольких лет западные наблюдатели восторженно восхваляли успехи Украины в оборонных инновациях — от искусственного интеллекта (ИИ) до дронов, децентрализации и экосистемы оборонных стартапов. Но на Украине не все благополучно.
До недавнего времени публично ставить под сомнение подобные вещи было крайне сложно из-за отсутствия открытой статистики по военным действиям. Однако к 2025 г. многие аналитики признают: в ряде направлений Россия, возможно, уже обогнала Украину во внедрении инноваций.
Это теперь публично признают различные эксперты, включая бывшего главнокомандующего Украины Валерия Залужного, эксперта «Фонда Карнеги» Майкла Кофмана и других. Это предоставляет возможность для более открытой дискуссии на тему что из украинского опыта действительно эффективно и воспроизводимо применительно к США и Западной Европе, а что — нет.
Автор был непосредственно вовлечен в формирование ключевых концепций украинской технологической экосистемы. Например, с 2019 по 2023 гг. автор возглавлял комитет по развитию ИИ и руководил разработкой дорожной карты внедрения ИИ в сфере обороны. Важно понять контекст и причины того, почему украинская экосистема развивалась именно так в условиях военных действий.
Существуют системные проблемы и открытые вопросы, которые должны побудить западное экспертное сообщество к размышлениям. В частности: действительно ли украинские модели и технологические решения применимы к будущему соперничеству США с Китаем и Россией? Или они, напротив, ограничат потенциал западной оборонной промышленности? Нужно ли более внимательно изучать опыт России и Китая после 2022 г.?
Моя цель здесь не критика ради самой критики, а попытка взглянуть с разных сторон на популяризуемые модели, основанные на украинском опыте. Действительно, во многих отношениях (но не во всех) Украина — страна, где я родился — делала все возможное в тех условиях и с теми ресурсами, что имела. Но крайне важно критически рассмотреть, или хотя бы поставить вопрос: является ли украинский опыт оборонных инноваций действительно полезной моделью для западных стран в будущих конфликтах с крупными державами вроде Китая или России?
Децентрализация — не панацея
К началу активной фазы военных действий Украина занимала 122-е место из 180 в Индексе восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index, CPI). Стандартная процедура сертификации дронов занимала один год. Государственный бюджет на 2022 г. был секвестирован, при этом расходы на дорожное строительство в 2022 г. утроены.
С началом активной фазы военных действий система государственных закупок была фактически парализована. Можно долго спорить с чиновниками, что «она работала», но лично мне в первую неделю боевых действий пришлось покупать каски, автомобили и другое снаряжение для друзей. На второй неделе я закупал бельё и носки для целого батальона под Киевом. Эту партию доставили коммерческой почтой («Нова пошта») в ближайшее ее отделение на не занятой противником территории, и батальон получил ее через неделю после отправки.
В целом произошло нечто уникальное: из-за паралича госзакупок воинским частям позволили закупать все самим. Одновременно активными игроками в снабжении армии стали благотворительные фонды и частные доноры — они напрямую поставляли форму, питание и оружие. Чтобы удовлетворить спрос, волонтеры уже через четыре месяца войны начали создавать импровизированные ИТ-системы для закупок.
Все это привело к полной дебюрократизации и частичной декоррупции закупок. Возник интересный феномен: воинские части и фонды стали более стабильными и предсказуемыми заказчиками, нежели само государство. В результате в этой экосистеме произросли некоторые технологические компании-производители дронов, которые реинвестировали прибыль в развитие — как это делала компания «Укрспецсистемы» (Ukrspecsystems) в 2014–2015 гг., собиравшая средства на дроны через PeopleProject и к 2021 г. ставшая лидером рынка.
Звучит как история успеха? Возможно. Но к 2025 г г. проявились системные проблемы: воинские части начали закупать технику самостоятельно при минимальном контроле, а коррупция «опустилась» на уровень подразделений.
Такая децентрализация затруднила концентрацию ресурсов на перспективных разработках и интеграцию закупаемой продукции военного назначения в военную среду. Не говоря уже об экономии на эффекте масштаба закупок или совместимости закупаемых систем.
В любом вооруженном конфликте соперничество идет не только на поле боя, но и в логистике. А система закупок, сложившаяся в Украине, решала совсем иные задачи, чем те, что стоят перед США в соперничестве с Китаем и Россией. Децентрализованная модель может оказаться куда менее эффективной, чем централизованные системы — и Россия уже демонстрирует это на поле боя в 2025 г.
«Зоопарк» технологических платформ не масштабируется
С 2022 г. децентрализованные закупки в Украине породили всплеск малых оборонных бизнесов. Тысячи компаний занялись производством дронов, комплектующих, программного обеспечения (ПО) и иных услуг для нужд фронта. Это движение стало массовым и реально усилило военный потенциал страны в критический момент. Но по качеству производимой продукции и долгосрочной эффективности оно всё чаще сравнивается с китайским «Большим скачком» эпохи 1950-х гг., когда Коммунистическая партия Китая (КПК) призывала выплавлять сталь в дворовых печах.
В 2024 г. Министерство цифровой трансформации Украины официально предложило собирать дроны в домашних условиях. После волны критики от этой идеи отказались, но сам факт ее опубличивания стал тревожным сигналом качества принимаемых решений.
К 2025 г. стало ясно: лишь 20–40 % FPV-дронов долетают до цели. В результате реальная стоимость поражения одного танка оказалась гораздо выше рекламируемых 500 долл. за дрон. Главная причина — передовые и быстро масштабируемые в производстве технологические решения в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ) России.
Украинская сторона почти не предпринимала попыток создать системы, устойчивые к подобному противодействию, или предугадывающие будущие угрозы — вроде дронов, управляемых по оптоволокону или с автономной навигацией без GPS.
Корень проблемы — дефицит инженерно-конструкторской мысли и специальных знаний и навыков у госзаказчика. Большинство новых компаний были по сути «сборочными цехами» без технической глубины. Поэтому Украина не смогла эффективно ответить на новые вызовы.
Россия, напротив, избрала более централизованный подход: ограниченный круг оборонно-промышленных компаний разрабатывал ключевые технологии и платформы. Эти компании сосредоточили свое внимание на ограниченном круге изделий (пример — дроны «Герань» / Shahed), последовательно совершенствуя их через интеграцию новейших разработок в области ИИ, совершенствование электронной компонентной базы и стандартизацию архитектуры. В итоге у России получилось выстроить в большей степени унифицированный и адаптируемый технологический комплекс, более приспособленный к массовому производству в условиях продолжительных военных действий.
Украинская же модель породила «зоопарк» несовместимых решений без каких бы то ни было единых стандартов и архитектуры. Масштабировать его невозможно. Уже внутри Украины идет дискуссия о том, что делать: система утрачивает конкурентоспособность и перспективу развития. Да, отчасти критика исходит от крупных игроков, которые хотят вытеснить с рынка малый бизнес, работающий напрямую с военными, но у этой критики есть системный аргумент: малый бизнес редко когда способен на сложную конструкторскую разработку и постановку ее на серийное производство.
Да, децентрализация сыграла критическую роль на раннем этапе войны. Но с ростом требований к качеству все очевиднее, что централизованные подходы обеспечивают предсказуемость и устойчивость.
Стратегическая иллюзия?
К 2021 г. оборонно-промышленный комплекс Украины находился в удручающем состоянии. Главным игроком оставался контролируемый государством конгломерат «Укроборонпром» (Ukroboronprom, впоследствии Ukrainian Defense Systems), объединивший более 130 предприятий ещё советского периода, включая фирму «Антонов» и заводы, работавшие на экспорт специмущества в страны Африки и Ближнего Востока.
Однако главной задачей Укроборонпрома до 2022 г. была не разработка современного оружия, а акционирование и внедрение корпоративного управления.
Частный сектор был крайне ограниченным, как по количеству предприятий, так и по их потенциалу. Несмотря на ведущиеся с 2014 г. военные действия против российских прокси-сил, новых инженерных школ и конкурентоспособных компаний почти не появилось.
К началу 2022 г. единственный кадровый резерв хоть как-то связанный с инженерией — это экспортоориентированные программисты-облачники (SaaS), специалисты финтеха и индустрии IT-развлечений. После начала войны они занялись привычным — грантами, питчами, бизнес-акселераторами. Уже через несколько месяцев после 24 февраля 2022 г. появились ивенты, конкурсы и бизнес-ангелы оборонных стартапов.
Но системных исследований, анализа технологических решений противника не было, не были артикулированы и реальные потребности фронта, не было и стратегии развития. Большинство профинансированных решений — это эксперименты без контекста, действия наобум.
Наиболее заметная инициатива — Brave1. По сути, организатор ивентов и слабо организованная сеть кураторов, финансирующих отдельные команды разработчиков. Все ограничилось предоставлением площадки для нетворкинга и питчей; при этом анализом российских технологий и сценарным планированием не занимались, архитектурные решения не предлагались. Финансирование было символическим: к 2025 г. Brave1 раздала около 8 млн долл. грантов и помогла привлечь 25 млн долл. инвестиций — что соответствует одному раунду Series A для стартапа в Кремниевой долине.
То, что возникло на Украине, было реакцией на шок войны и ограниченные ресурсы — время, людей, деньги. Это не стратегия, а вынужденный импровизированный формат.
Для простых задач, требующих сотен быстрых решений, модель полезна. Но в долгосрочном соперничестве с Россией и Китаем — нет. Стартап-подход не масштабируется.
Украина явила важный урок: нужна инфраструктура для быстрого цикла «разработка — испытания — постановка на производство», причем испытания должны проводиться в реальных условиях поля боя. Но этот вывод в большей степени относится к инженерно-конструкторской и производственной дисциплине, а не к пригодности стартап-модели для применения в качестве базовой при разработке новых образцов вооружения и военной техники.
Главная проблема заключается не в том, как выстроить этот цикл в условиях начавшегося вооруженного конфликта. Сам ход конфликта принудит к этому. Проблема в том, как сделать его самодостаточным уже в мирное время, когда нет срочности, но есть конкурентная борьба за таланты, внимание заказчика и ресурсы.
Китай, например, успешно справляется с этой задачей: его ведущие инженеры трудятся в таких компаниях, как DJI, которые работают на коммерческой основе и на экспорт. По разным оценкам, около 60 % иностранных компонентов для российских беспилотников и до 80 % тех, которые используются украинскими производителями, поставляются из Китая. Это непрерывное производство, ориентированное на рынок, позволяет поддерживать всю систему – от проектирования до логистики — в рабочем состоянии.
Ни один кластер малых стартапов, каким бы креативным он ни был, сам по себе не сможет решить подобного рода проблемы. Экосистеме стартапов не хватает масштаба, и они не могут достичь объёма закупок или системной интеграции, необходимых для архитектуры национальной оборонной промышленности. Короче говоря, это совсем другой зверь. Создание устойчивой оборонно-промышленной инженерно-конструкторской платформы — это не просто гранты и встречи; это искусство государственного управления на стратегическом уровне – это долгосрочные инвестиции, координация усилий и планирование на общенациональном уровне.
Пределы «гибкости»
Война выявила глубокие системные проблемы военного производства в США и Европе и одновременно обозначила траектории развития Китая и России. Эти две страны становятся главными ориентирами будущих неядерных вооруженных конфликтов — с акцентом на системность, масштабируемость и технологическую зрелость.
В противоположность им, к 2022 г. у Украины была деградировавшая экосистема оборонной промышленности. Госсектор сосредоточился на внутренней реформе и экспорте специмущества на рынки, освоенные ещё в советский период; частный же сектор практически отсутствовал. В этих условиях единственно возможной для применения моделью стали децентрализованные поставки, основанные на малом бизнесе, простых технологических решениях и низовой инициативе стартап-сообщества.
Эта модель реально сработала в первые годы войны, мобилизовав тысячи коллективов. Но к 2024–2025 гг. стали очевидными ее ограничения: отсутствие стратегии, фрагментированные решения, невозможность масштабирования, слабая инженерно-конструкторская база. Итог — «зоопарк» технологий, неэффективный в условиях современной РЭБ.
Несмотря на доминирование украинского опыта в медиа, к его ценности следует подходить с осторожностью, в особенности в вопросах децентрализации закупок, применения экосистемы стартапов для масштабирования производства продукции военного назначения, всевозрастающей значимости недорогих дистанционно управляемых дронов и т. п. Это урок того, что делать, когда оборонная промышленность рухнула. Но не ответ на вопрос, как выстроить зрелую модель оборонной промышленности при игре вдолгую.
Украинскую экосистему оборонных стартапов нельзя рассматривать как стратегическую альтернативу зрелым государственным системам. Она не отвечает требованиям массового производства, архитектурной совместимости, экспортной конкурентоспособности и самовоспроизводства. Она подходит для краткосрочной мобилизации, но не для системного соперничества.
Для США и их союзников ключевой урок: не зацикливаться на динамике текущего вооруженного конфликта на Украине, но смотреть вперед, на войны, которые могут возникнуть через два-три года, где потребуются совсем другие масштабы производства и уровни технологической совместимости. Китай и Россия уже движутся в эту сторону.
На таком стратегическом фоне решающим фактором станет не количество стартапов и дешёвых дронов, а способность страны выстроить интегрированные, масштабируемые и устойчивые оборонно-промышленные экосистемы. Украинский опыт даёт уроки гибкости и мобилизации, но его механическое копирование без учёта структурных особенностей военно-политических институтов и оборонно-промышленного комплекса Запада может подорвать эффективность реализуемых им стратегических концепций в долгосрочной перспективе.
Об авторе: Виталий Гончарук — американский предприниматель украинского происхождения, специалист по системам автономной навигации и ИИ. В 2022 г. его компания Augmented Pixels была приобретена американской корпорацией Qualcomm. В 2019–2023 гг. Гончарук возглавлял комитет по развитию ИИ Украины, входил в совет внешних инноваций Укроборонпрома, а также был советником вице-премьера Украины по временно оккупированным территориям, который впоследствии стал министром обороны.
Оригинал статьи
До недавнего времени публично ставить под сомнение подобные вещи было крайне сложно из-за отсутствия открытой статистики по военным действиям. Однако к 2025 г. многие аналитики признают: в ряде направлений Россия, возможно, уже обогнала Украину во внедрении инноваций.
Это теперь публично признают различные эксперты, включая бывшего главнокомандующего Украины Валерия Залужного, эксперта «Фонда Карнеги» Майкла Кофмана и других. Это предоставляет возможность для более открытой дискуссии на тему что из украинского опыта действительно эффективно и воспроизводимо применительно к США и Западной Европе, а что — нет.
Автор был непосредственно вовлечен в формирование ключевых концепций украинской технологической экосистемы. Например, с 2019 по 2023 гг. автор возглавлял комитет по развитию ИИ и руководил разработкой дорожной карты внедрения ИИ в сфере обороны. Важно понять контекст и причины того, почему украинская экосистема развивалась именно так в условиях военных действий.
Существуют системные проблемы и открытые вопросы, которые должны побудить западное экспертное сообщество к размышлениям. В частности: действительно ли украинские модели и технологические решения применимы к будущему соперничеству США с Китаем и Россией? Или они, напротив, ограничат потенциал западной оборонной промышленности? Нужно ли более внимательно изучать опыт России и Китая после 2022 г.?
Моя цель здесь не критика ради самой критики, а попытка взглянуть с разных сторон на популяризуемые модели, основанные на украинском опыте. Действительно, во многих отношениях (но не во всех) Украина — страна, где я родился — делала все возможное в тех условиях и с теми ресурсами, что имела. Но крайне важно критически рассмотреть, или хотя бы поставить вопрос: является ли украинский опыт оборонных инноваций действительно полезной моделью для западных стран в будущих конфликтах с крупными державами вроде Китая или России?
Децентрализация — не панацея
К началу активной фазы военных действий Украина занимала 122-е место из 180 в Индексе восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index, CPI). Стандартная процедура сертификации дронов занимала один год. Государственный бюджет на 2022 г. был секвестирован, при этом расходы на дорожное строительство в 2022 г. утроены.
С началом активной фазы военных действий система государственных закупок была фактически парализована. Можно долго спорить с чиновниками, что «она работала», но лично мне в первую неделю боевых действий пришлось покупать каски, автомобили и другое снаряжение для друзей. На второй неделе я закупал бельё и носки для целого батальона под Киевом. Эту партию доставили коммерческой почтой («Нова пошта») в ближайшее ее отделение на не занятой противником территории, и батальон получил ее через неделю после отправки.
В целом произошло нечто уникальное: из-за паралича госзакупок воинским частям позволили закупать все самим. Одновременно активными игроками в снабжении армии стали благотворительные фонды и частные доноры — они напрямую поставляли форму, питание и оружие. Чтобы удовлетворить спрос, волонтеры уже через четыре месяца войны начали создавать импровизированные ИТ-системы для закупок.
Все это привело к полной дебюрократизации и частичной декоррупции закупок. Возник интересный феномен: воинские части и фонды стали более стабильными и предсказуемыми заказчиками, нежели само государство. В результате в этой экосистеме произросли некоторые технологические компании-производители дронов, которые реинвестировали прибыль в развитие — как это делала компания «Укрспецсистемы» (Ukrspecsystems) в 2014–2015 гг., собиравшая средства на дроны через PeopleProject и к 2021 г. ставшая лидером рынка.
Звучит как история успеха? Возможно. Но к 2025 г г. проявились системные проблемы: воинские части начали закупать технику самостоятельно при минимальном контроле, а коррупция «опустилась» на уровень подразделений.
Такая децентрализация затруднила концентрацию ресурсов на перспективных разработках и интеграцию закупаемой продукции военного назначения в военную среду. Не говоря уже об экономии на эффекте масштаба закупок или совместимости закупаемых систем.
В любом вооруженном конфликте соперничество идет не только на поле боя, но и в логистике. А система закупок, сложившаяся в Украине, решала совсем иные задачи, чем те, что стоят перед США в соперничестве с Китаем и Россией. Децентрализованная модель может оказаться куда менее эффективной, чем централизованные системы — и Россия уже демонстрирует это на поле боя в 2025 г.
«Зоопарк» технологических платформ не масштабируется
С 2022 г. децентрализованные закупки в Украине породили всплеск малых оборонных бизнесов. Тысячи компаний занялись производством дронов, комплектующих, программного обеспечения (ПО) и иных услуг для нужд фронта. Это движение стало массовым и реально усилило военный потенциал страны в критический момент. Но по качеству производимой продукции и долгосрочной эффективности оно всё чаще сравнивается с китайским «Большим скачком» эпохи 1950-х гг., когда Коммунистическая партия Китая (КПК) призывала выплавлять сталь в дворовых печах.
В 2024 г. Министерство цифровой трансформации Украины официально предложило собирать дроны в домашних условиях. После волны критики от этой идеи отказались, но сам факт ее опубличивания стал тревожным сигналом качества принимаемых решений.
К 2025 г. стало ясно: лишь 20–40 % FPV-дронов долетают до цели. В результате реальная стоимость поражения одного танка оказалась гораздо выше рекламируемых 500 долл. за дрон. Главная причина — передовые и быстро масштабируемые в производстве технологические решения в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ) России.
Украинская сторона почти не предпринимала попыток создать системы, устойчивые к подобному противодействию, или предугадывающие будущие угрозы — вроде дронов, управляемых по оптоволокону или с автономной навигацией без GPS.
Корень проблемы — дефицит инженерно-конструкторской мысли и специальных знаний и навыков у госзаказчика. Большинство новых компаний были по сути «сборочными цехами» без технической глубины. Поэтому Украина не смогла эффективно ответить на новые вызовы.
Россия, напротив, избрала более централизованный подход: ограниченный круг оборонно-промышленных компаний разрабатывал ключевые технологии и платформы. Эти компании сосредоточили свое внимание на ограниченном круге изделий (пример — дроны «Герань» / Shahed), последовательно совершенствуя их через интеграцию новейших разработок в области ИИ, совершенствование электронной компонентной базы и стандартизацию архитектуры. В итоге у России получилось выстроить в большей степени унифицированный и адаптируемый технологический комплекс, более приспособленный к массовому производству в условиях продолжительных военных действий.
Украинская же модель породила «зоопарк» несовместимых решений без каких бы то ни было единых стандартов и архитектуры. Масштабировать его невозможно. Уже внутри Украины идет дискуссия о том, что делать: система утрачивает конкурентоспособность и перспективу развития. Да, отчасти критика исходит от крупных игроков, которые хотят вытеснить с рынка малый бизнес, работающий напрямую с военными, но у этой критики есть системный аргумент: малый бизнес редко когда способен на сложную конструкторскую разработку и постановку ее на серийное производство.
Да, децентрализация сыграла критическую роль на раннем этапе войны. Но с ростом требований к качеству все очевиднее, что централизованные подходы обеспечивают предсказуемость и устойчивость.
Стратегическая иллюзия?
К 2021 г. оборонно-промышленный комплекс Украины находился в удручающем состоянии. Главным игроком оставался контролируемый государством конгломерат «Укроборонпром» (Ukroboronprom, впоследствии Ukrainian Defense Systems), объединивший более 130 предприятий ещё советского периода, включая фирму «Антонов» и заводы, работавшие на экспорт специмущества в страны Африки и Ближнего Востока.
Однако главной задачей Укроборонпрома до 2022 г. была не разработка современного оружия, а акционирование и внедрение корпоративного управления.
Частный сектор был крайне ограниченным, как по количеству предприятий, так и по их потенциалу. Несмотря на ведущиеся с 2014 г. военные действия против российских прокси-сил, новых инженерных школ и конкурентоспособных компаний почти не появилось.
К началу 2022 г. единственный кадровый резерв хоть как-то связанный с инженерией — это экспортоориентированные программисты-облачники (SaaS), специалисты финтеха и индустрии IT-развлечений. После начала войны они занялись привычным — грантами, питчами, бизнес-акселераторами. Уже через несколько месяцев после 24 февраля 2022 г. появились ивенты, конкурсы и бизнес-ангелы оборонных стартапов.
Но системных исследований, анализа технологических решений противника не было, не были артикулированы и реальные потребности фронта, не было и стратегии развития. Большинство профинансированных решений — это эксперименты без контекста, действия наобум.
Наиболее заметная инициатива — Brave1. По сути, организатор ивентов и слабо организованная сеть кураторов, финансирующих отдельные команды разработчиков. Все ограничилось предоставлением площадки для нетворкинга и питчей; при этом анализом российских технологий и сценарным планированием не занимались, архитектурные решения не предлагались. Финансирование было символическим: к 2025 г. Brave1 раздала около 8 млн долл. грантов и помогла привлечь 25 млн долл. инвестиций — что соответствует одному раунду Series A для стартапа в Кремниевой долине.
То, что возникло на Украине, было реакцией на шок войны и ограниченные ресурсы — время, людей, деньги. Это не стратегия, а вынужденный импровизированный формат.
Для простых задач, требующих сотен быстрых решений, модель полезна. Но в долгосрочном соперничестве с Россией и Китаем — нет. Стартап-подход не масштабируется.
Украина явила важный урок: нужна инфраструктура для быстрого цикла «разработка — испытания — постановка на производство», причем испытания должны проводиться в реальных условиях поля боя. Но этот вывод в большей степени относится к инженерно-конструкторской и производственной дисциплине, а не к пригодности стартап-модели для применения в качестве базовой при разработке новых образцов вооружения и военной техники.
Главная проблема заключается не в том, как выстроить этот цикл в условиях начавшегося вооруженного конфликта. Сам ход конфликта принудит к этому. Проблема в том, как сделать его самодостаточным уже в мирное время, когда нет срочности, но есть конкурентная борьба за таланты, внимание заказчика и ресурсы.
Китай, например, успешно справляется с этой задачей: его ведущие инженеры трудятся в таких компаниях, как DJI, которые работают на коммерческой основе и на экспорт. По разным оценкам, около 60 % иностранных компонентов для российских беспилотников и до 80 % тех, которые используются украинскими производителями, поставляются из Китая. Это непрерывное производство, ориентированное на рынок, позволяет поддерживать всю систему – от проектирования до логистики — в рабочем состоянии.
Ни один кластер малых стартапов, каким бы креативным он ни был, сам по себе не сможет решить подобного рода проблемы. Экосистеме стартапов не хватает масштаба, и они не могут достичь объёма закупок или системной интеграции, необходимых для архитектуры национальной оборонной промышленности. Короче говоря, это совсем другой зверь. Создание устойчивой оборонно-промышленной инженерно-конструкторской платформы — это не просто гранты и встречи; это искусство государственного управления на стратегическом уровне – это долгосрочные инвестиции, координация усилий и планирование на общенациональном уровне.
Пределы «гибкости»
Война выявила глубокие системные проблемы военного производства в США и Европе и одновременно обозначила траектории развития Китая и России. Эти две страны становятся главными ориентирами будущих неядерных вооруженных конфликтов — с акцентом на системность, масштабируемость и технологическую зрелость.
В противоположность им, к 2022 г. у Украины была деградировавшая экосистема оборонной промышленности. Госсектор сосредоточился на внутренней реформе и экспорте специмущества на рынки, освоенные ещё в советский период; частный же сектор практически отсутствовал. В этих условиях единственно возможной для применения моделью стали децентрализованные поставки, основанные на малом бизнесе, простых технологических решениях и низовой инициативе стартап-сообщества.
Эта модель реально сработала в первые годы войны, мобилизовав тысячи коллективов. Но к 2024–2025 гг. стали очевидными ее ограничения: отсутствие стратегии, фрагментированные решения, невозможность масштабирования, слабая инженерно-конструкторская база. Итог — «зоопарк» технологий, неэффективный в условиях современной РЭБ.
Несмотря на доминирование украинского опыта в медиа, к его ценности следует подходить с осторожностью, в особенности в вопросах децентрализации закупок, применения экосистемы стартапов для масштабирования производства продукции военного назначения, всевозрастающей значимости недорогих дистанционно управляемых дронов и т. п. Это урок того, что делать, когда оборонная промышленность рухнула. Но не ответ на вопрос, как выстроить зрелую модель оборонной промышленности при игре вдолгую.
Украинскую экосистему оборонных стартапов нельзя рассматривать как стратегическую альтернативу зрелым государственным системам. Она не отвечает требованиям массового производства, архитектурной совместимости, экспортной конкурентоспособности и самовоспроизводства. Она подходит для краткосрочной мобилизации, но не для системного соперничества.
Для США и их союзников ключевой урок: не зацикливаться на динамике текущего вооруженного конфликта на Украине, но смотреть вперед, на войны, которые могут возникнуть через два-три года, где потребуются совсем другие масштабы производства и уровни технологической совместимости. Китай и Россия уже движутся в эту сторону.
На таком стратегическом фоне решающим фактором станет не количество стартапов и дешёвых дронов, а способность страны выстроить интегрированные, масштабируемые и устойчивые оборонно-промышленные экосистемы. Украинский опыт даёт уроки гибкости и мобилизации, но его механическое копирование без учёта структурных особенностей военно-политических институтов и оборонно-промышленного комплекса Запада может подорвать эффективность реализуемых им стратегических концепций в долгосрочной перспективе.
Об авторе: Виталий Гончарук — американский предприниматель украинского происхождения, специалист по системам автономной навигации и ИИ. В 2022 г. его компания Augmented Pixels была приобретена американской корпорацией Qualcomm. В 2019–2023 гг. Гончарук возглавлял комитет по развитию ИИ Украины, входил в совет внешних инноваций Укроборонпрома, а также был советником вице-премьера Украины по временно оккупированным территориям, который впоследствии стал министром обороны.
Оригинал статьи
Вас может заинтересовать
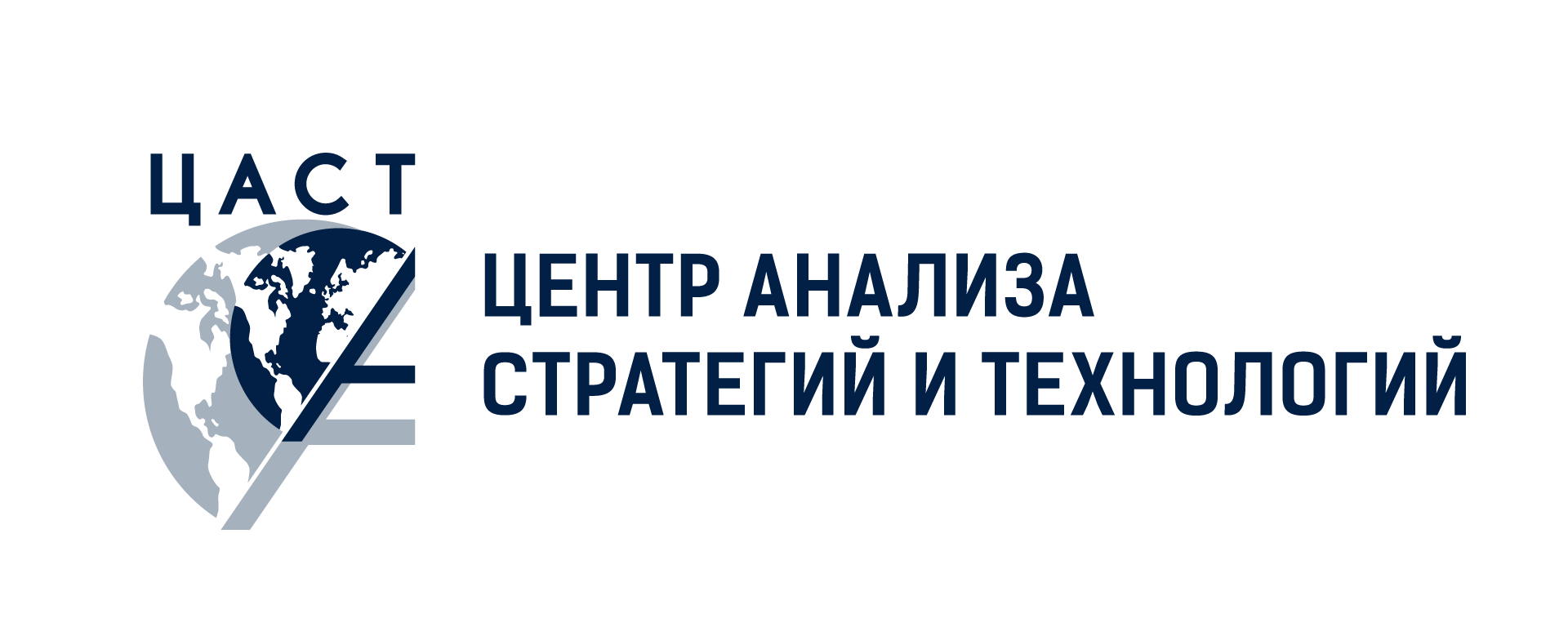
Центр анализа стратегий и технологий "ЦАСТ"
ИНН 7743366760
г. Москва, ул . 3-я Тверская-Ямская, 24, офис 5
+7 (499) 251-90-69
books@cast.ru
