Критика и идеалы знания в военных организациях
Критика и идеалы знания в военных организациях
Ångström J. Criticism and Knowledge Ideals in Military Organizations // Scandinavian Journal of Military Studies, 02.09.2025, https://sjms.nu/articles/10.31374/sjms.378
Перевод ЦАСТ
Широко считается, что западные военные организации являются слабыми инноваторами — они ориентированы на процедуры, сопротивляются изменениям и медленно обучаются; эти черты присущи и другим крупным бюрократическим организациям. В статье утверждается, что особый «идеал знания», сложившийся в военных организациях и основанный на четырёх взаимосвязанных склонностях — к действию, к целесообразности, к конфликту и к иерархии (action, relevance, conflict, hierarchy — ARCH), — подавляет критику и тем самым препятствует инновациям. ARCH коллективно демотивирует критику на индивидуальном уровне; на организационном уровне он не позволяет критике выполнять функцию самоисправления. С применением тематического анализа эти склонности выявляются в рамках рассмотрения «наиболее различающихся случаев» путём сравнения военных доктрин США и Швеции. ARCH отражает и усиливает доминирующее на Западе представление о ведении войны. Повышение организационной способности к инновациям может потребовать пересмотра институциональных убеждений о военной эффективности и характере войны.
Введение
Военные организации, которым удаётся внедрять инновации, могут получить решающие преимущества в войне. Можно утверждать, что сопротивление на Украине российскому вторжению было бы трудно поддерживать без подобных инноваций. Учитывая высокую цену вопроса, неудивительно, что военные организации в мирное время тратят миллиарды на организационные и образовательные реформы, создание военных учебных заведений и финансирование исследований. Тем не менее западные военные организации часто критикуют за неспособность к инновациям, быстрому обучению и адаптации к меняющимся обстоятельствам. Почему же военные организации испытывают трудности с инновациями, несмотря на потенциально огромные выгоды?
Научные объяснения неуспехов военных организаций в инновациях варьируются от бюрократической инерции, несовпадения представлений о воинской доблести с характером конкретной инновации, отсутствия процессов обучения, влияния военной культуры и идентичности того или иного вида вооружённых сил — до организационных проблем, включая конкуренцию между видами вооруженных сил. Хотя эти объяснения дают полезные инсайты, у них есть ограничения.
Во‑первых и главным образом, признавая, что критика может стоить отдельному офицеру продвижения по службе, эти работы не учитывают влияние специфического военного «идеала знания». Во‑вторых, методологически исследования почти целиком опираются на одиночные кейсы инноваций в армиях великих держав. Нехватка кросс‑национальных сравнений затрудняет выявление причинных факторов инноваций.
В данной статье предлагается экономное и дополняющее объяснение неудач инноваций. Вкратце: специфический идеал знания, закреплённый в западных военных организациях и далее обозначаемый как ARCH, сдерживает критику и тем самым становится серьёзным препятствием для инноваций. ARCH — это акроним четырёх взаимосвязанных склонностей (action, relevance, conflict, hierarchy — к действию, целесообразности, конфликту и иерархии), которые совместно работают как смыслообразующий механизм, задающий роли и отношения между различными понятиями и категориями знания в военной сфере. В результате ARCH демотивирует критику снизу, затрудняя выдвижение альтернативных представлений о будущей войне и развитие критики как механизма самокоррекции внутри военных организаций. Следует подчеркнуть: военные организации не создавали этот идеал сознательно для подавления критики и инноваций. ARCH отражает определённый способ понимания войны, глубоко укоренённый в современных западных военных организациях. Соответственно, критику и инновации можно рассматривать как «побочный ущерб» попыток оптимизировать военные организации под определённую версию войны.
Для эмпирической проверки отношения военных организаций к знанию применяется тематический анализ военных доктрин США и Швеции в сравнительном исследовании с рассмотрением «наиболее различающихся случаев». Если у столь разных армий выявляются общие черты, есть основания полагать, что они характерны и для других западных военных организаций. Статья вносит вклад в исследования военных инноваций, предлагая экономное базовое объяснение трудностей военных организаций с инновациями. Фокус на понимании знания позволяет обнаружить влияние нематериальных факторов на организационную критику и выявить структурные препятствия инновациям. Это не заменяет существующие «материальные» объяснения, опирающиеся на властные отношения и карьерные возможности в бюрократии, но дополняет их, показывая, как идеалы знания могут влиять на внутренние механизмы военных организаций.
Структура статьи такова. Сначала дан обзор литературы по военным инновациям для оценки текущего состояния знаний. Хотя поле исследований обширно, остаются пробелы в теоретизации механизмов «снизу вверх» и особенно роли критики. Во второй части показано, как критика может влиять на военные инновации. Далее излагается схема исследования с фокусом на том, как идеалы знания «встраиваются» в доктрины. В основной аналитической части выявляются присущие западным военным организациям идеалы знания. В заключении обсуждается, как критика может получить место внутри военных организаций, не нанося ущерба военной эффективности.
Почему это важно
Как отмечает Гриссом (Grissom, 2006), исследования военных инноваций образуют достаточно связное поле, пытающееся объяснить, почему военные организации регулярно терпят неудачи в инновациях, несмотря на очевидную их необходимость. Вместо подготовки к будущей войне они «черствеют» и костенеют, как будто готовятся к прошлой. Таким образом, поле касается ключевой стратегической проблемы, получившей серьёзное академическое внимание и опирающейся на теоретическую проработку и эмпирические данные.
По мнению Гриссома, большинство исследователей явно или неявно понимают инновации как существенные изменения в ведении военных действий, повышающие боевую эффективность. Поэтому проводится различие между повседневным решением задач и «подлинной» инновацией, где последняя означает более глубокую трансформацию (Murray, 2011; Jensen, 2016). Соответственно, литература сосредоточена на случаях, где инновации доказанно повышали эффективность. Например, центром внимания стали внедрение танка и пулемёта, тогда как принятие, вероятно, контрпродуктивных идей (французская оперативная мысль 1940 г.) не попадает под определение «инновации». Также проводится различие между трудностями инноваций в мирное и военное время (Murray & Millett, 1996; Murray, 2011). Часто инновации разделяют на доктринальные и технологические. Эмпирически поле доминируется анализами великих держав, особенно США; редко (например, Raska, 2016) рассматриваются малые государства.
Подавляющее большинство исследований военных инноваций используют структурные подходы; центральная дискуссия — какие именно структурные факторы лучше всего объясняют вариации инноваций. В качестве объяснений предлагаются внешние угрозы (Posen, 1984), межведомственное соперничество (Avant, 1994), бюрократическая инерция (Rosen, 1991), внутриорганизационная конкуренция (Jensen, 2016) и военная культура (Kier, 1997; Farrell & Terriff, 2002; Hill, 2015). Однако, как отмечает Гриссом, существует множество случаев инноваций «снизу вверх», которые структурные теории не объясняют. Фоли (Fauley, 2014) даже предполагает, что немецкая тактическая адаптация зимой 1917 года перед весенним наступлением 1918 года произошла вопреки немецкой военной культуре. Теория давления «снизу вверх» в пользу военных инноваций остаётся не вполне раскрытой.
Стандартный аргумент об организационной инерции прост. Поскольку организации создаются для решения определённой проблемы и их создатели не желают её повторения, организации обычно «спроектированы так, чтобы не меняться», как пишет Розен (Rosen, 1991). Йенсен поясняет: «Большие структуры формируют устойчивые привычки. Такая стандартизация предполагает, что современные военные бюрократии должны сопротивляться изменениям. … Современные вооружённые силы, как и любая бюрократия, — это «железная клетка», склонная вытеснять инновации под предлогом повышения эффективности и поддержания существующих процессов». (Jensen, 2016).
Хэмел также указывает на заинтересованные группы как на препятствие инновациям: «Благоговейное следование прецедентам — великое благо для тех, кто наверху: прецедент защищает их прерогативы. Он вознаграждает навыки, отточенные ими, и знание, приобретённое при управлении «старой машиной». (Hamel, цит. по Price, 2014).
Инновации и критика
Когда Хиршман (Hirshman, 1970) предложил свою классическую идею о том, что индивид, сталкиваясь с подавлением, несправедливостью или неэффективностью, выбирает между «самоустранением» или «возвышением голоса», он не обязательно имел в виду военную сферу. Тем не менее его аргументация релевантна и для военных организаций. «Самоустранение» в форме отставки старших офицеров в ответ на, по их мнению, ошибочные политические решения было предметом серьёзной дискуссии (например, Snider, 2017; Faever, 2017; Kohn, 2017). Обсуждались и случаи наказания гражданским руководством за явное неповиновение (Bessner & Lorber, 2012; Levy, 2016), а также неподчинение, не доходящее до мятежа (Levy, 2017). «Возвышение голоса» же изучено меньше. В литературе его часто отождествляют с политической повесткой военных (например, Urben, 2014), однако здесь под «возвышением голоса» понимается критика снизу внутри вооружённых сил.
Вкратце: критика повышает вероятность инноваций, поскольку позволяет мыслящим критически артикулировать альтернативу текущему порядку. Такие альтернативы невозможны без рефлексивного мышления — умения видеть и понимать основания текущих познавательных претензий. Создавая условия для критического мышления и давая голос альтернативам, критика наделяет организацию механизмом самосовершенствования. Следовательно, критика одновременно проектирует альтернативные будущие и служит инструментом их систематического отделения и оценки: плохие варианты отбрасываются, хорошие — те, что повышают эффективность, — реализуются. Прежде чем описывать границы применимости этой теории, необходимо точнее определить, что понимается под «критикой».
«Критика» происходит от греч. κρῑ́νω (krīnō) — различать, отбирать, судить, решать. И поныне критика «обозначает искусство суждения» (Koselleck, 1988). Если понимать критику как практику вынесения суждения, легко увидеть, почему она порождает разногласия и может противоречить иерархии в организациях. В современной речи критика нередко сводится к констатации плохого — негативным замечаниям, спонтанным, нормативным, эмоциональным. Более развитые формы критики не только указывают на ошибочность/плохое, но и объясняют причины — зачатки анализа. В литературном смысле «критика» часто означает комментарий (обзор, оценку) в области профессиональной компетенции — от еды и вина до искусства; критик опирается на набор правил/схем. В этом ракурсе «критика» и «критика (critique)» — грани одного явления: в основе обе — полемические действия, направленные на объект (поведение или акторов) с вынесением суждения (Koselleck, 1988), соотнесённые с альтернативой существующему положению.
В рамках данной статьи критика понимается как искусство/практика рассмотрения, исследования и оценки. Функционально это форма суждения о текущем порядке/ситуации, призванная показать, как изменить нынешнее состояние для устранения замеченного изъяна. Суждение может выражаться по‑разному: вербально или невербально; конструктивно или нет; явно или имплицитно; формально или неформально. Это определение не противопоставляет спонтанную и обдуманную критику и не фиксирует предмет — конкретный или абстрактный. Критика не равна нытью или брюзжанию и не сводится к грубости: это предложение альтернатив с аргументацией, основанной на доказательствах или логике.
Критика, как поиск изъянов и суждение о текущей практике/доктрине, обычно опирается на понимание того, что работает (в большей или меньшей степени), а что нет. Как отмечает Адамский (Adamsky, 2010): «Способность диагностировать и понимать разрывность природы войны — быстрые изменения способов и средств борьбы — вероятно, ключевой аспект управления обороной». Следовательно, критическое мышление и критика — не просто добавленная ценность, а необходимость для инноваций. Выявление неудач столь же важно, как фиксация успехов: провал часто указывает путь к совершенствованию. Критика — это упражнение в суждении, позволяющее артикулировать альтернативы.
Критическое мышление — необходимая предпосылка критики. Но менять организации способна лишь собственно критика. Как же именно критика «работает» внутри военной организации и каким образом служит инновациям?
Прежде всего, степень допустимости критики в организации — важный индикатор времени и места возникновения инноваций. Критика по определению является механизмом «снизу вверх», но необходимы и стимулы к критике, и институциональные условия её поддерживающие.
Во‑первых, критику следует поощрять, например, выделяя отдельные, но равно (или более того) вознаграждаемые и престижные карьерные треки. Критики действуют как «предприниматели норм» (Bloomfield, 2016) или «программные акторы» (Jensen, 2018), часто становясь главными проводниками инновационных изменений в профессиональных сообществах. Они интерпретируют события, оформляют дискурс, конструируют новые консенсусы. Минимум — критиков не следует наказывать за критику. Бюрократия требует стандартизации; при отсутствии установленного процесса изменений автоматически нет места критике существующего порядка. Иными словами, в крайних случаях нужен «индивидуально сшитый» процесс для критики. Йенсен (Jensen, 2016) фиксирует это условие, объясняя доктринальные реформы через «инкубаторы» и «сетей адвокации».
В так называемых инкубаторах офицерам специально поручают думать о будущей войне и разрабатывать новую адекватную «теорию победы». Получая приказ мыслить свободно, они обходят организационное давление, «заинтересованные» группы и риски наказаний за идеи, не совпадающие с интересами отдельных подразделений. Британский генерал сэр Руперт Смит (Smith, 2007) признавал, что меняться должен и офицерский корпус:
«Это потребует отбора людей с интеллектом и способностями к инновациям в неблагоприятных условиях — вместо «исполнителей», на которых так часто нацелены институциональные системы отбора, особенно в армиях для «индустриальной войны»… Теперь нам нужны инноваторы — умные, практичные, изобретательные и смелые, способные успешно действовать в новых обстоятельствах».
Коэн и Гуч (1991) вынесли жёсткий вердикт британским усилиям в Первую мировую войну из‑за отсутствия критики действий командования: «Покорное послушание подчинённых Хейга… приводило к тому, что офицеры среднего звена предпринимали наступление без тактического или стратегического смысла — верили они в то, что делают, или нет: исполняя приказы, они могли рассчитывать на повышение; делая иначе — наверняка получали отстранение от должности и позор».
В исследовании советских инноваций Кимберли Зиск (1993) также указывает на важность защиты карьерного пути для инноваторов. Адамский (Adamsky, 2010) отмечает, что в СССР «атмосфера не позволяла открыто критиковать старших командиров… Лишь в конце 1980‑х годов видные военные теоретики начали публиковать рефлексивные статьи с критикой советской тактики за ее консерватизм…».
Во‑вторых, организация должна быть восприимчивой к инновациям. По Йенсену (Jensen, 2016), даже породив новую «теорию победы», критика приведёт к реформе лишь при наличии достаточной поддержки в «сетях адвокации».
Иными словами, военным организациям необходимо быть открытыми к критике. Они не должны быть — по Алвессону и Спайсеру (2012) — «функционально глупыми». «Функционально глупая» организация проявляет «неспособность и/или нежелание использовать когнитивные и рефлексивные способности». Напротив, «установка, открытая к критике, поощряет критическое мышление, обсуждение и открытые вопросы». Соответственно, исследование нацелено на выявление базовых идеалов знания в военных организациях, чтобы прояснить структурные препятствия нисходящей критике и критическому мышлению.
Замысел исследования
Для получения обобщений об идеальном понимании знания западными военными организациями и их отношении к нему проведено сравнительное исследование с дизайном «наиболее различающихся случаев» (George & Bennett, 2005). В качестве кейсов выбраны вооружённые силы Швеции и США.
Шведские вооружённые силы могут выставить почти 50 тысяч военнослужащих, США — свыше 2,1 млн (International Institute for Strategic Studies, 2024). Военные расходы Швеции — 11,8 млрд долл., США — около 900 млрд долл. Однако при наличии сходств можно обобщать выводы.
Очевидно также, что вооруженные силы США и Швеции, как и другие западные армии, исторически были вынуждены балансировать между потребностями иерархии сверху и критикой и инновациями снизу. Примеры: Билли Митчелл, «восстание полковников» в Швеции в 2002 году, французская армия середины 1930‑х годов.
Для оценки понимания знания проведён тематический анализ (Braun & Clarke, 2021) объединённой (межвидовой) доктрины, а также доктрин наземной, морской и воздушной. Выбор пал на доктрины, поскольку они представляют «институционализированное знание о том, как, для чего и почему применяется военная сила».
При чтении доктрин внимание уделялось как содержанию (субстантивному знанию), так и отсутствующим элементам. Для выявления идеалов знания искались положения о том, какие виды знания предпочитаются и как принимается решение о корректности знания.
Разумеется, можно ставить под вопрос пригодность доктрин для измерения идеалов знания, указывая, что доктрина не всегда реализуется. Однако наблюдается значительная вариативность. Поэтому в анализе акцент сделан на устойчиво присутствующих в доктринах моментах.
ARCH и как он подавляет критику
В этом разделе представлены результаты. При том что не выявлены прямые и недвусмысленные запреты на критику и критическое мышление, очевидно, что вооруженные силы США и Швеции серьёзно демотивируют критику, закрепляя понимание знания, состоящее из четырёх склонностей ARCH.
В обоих случаях в доктринальных положениях творчество и критическое мышление номинально поощряются. Наиболее явно это выражено в уставе FM 3‑0 сухопутных войск США. Аналогично в шведской доктрине. Однако ограничивая критическое мышление уровнем командующих/командиров, доктрина усиливает иерархию.
По мере продвижения по карьерной лестнице наблюдается постепенное сужение мыслительных рамок, степень единообразия возрастает и четыре склонности ARCH по отдельности и совместно препятствуют критическому мышлению и критике.
Действие предпочтительнее правоты
Первая склонность — это склонность к действию. Военные организации рассматривают знание о войне как нечто, требующее действия. Офицеры рассматриваются как «менеджеры организованного насилия». Приоритет отдается оперативной и боевой подготовке над образованием, инструктажам вместо семинаров, при этом превалирует личный опыт.
Нерешительность признаётся одной из главных проблем. Сухопутные войска США заявляют, что «упорядоченная инициатива требует склонности к действию» (FM 3‑0). Доктрина сухопутных войск Швеции провозглашает, что «нерешительность хуже ошибочного действия». Все принципы войны подчёркивают решительность.
Склонность к действию препятствует критическому мышлению и легитимирует ошибку при условии совершения действия. Скорость в цикле OODA (т.н. петля Бойда или управленческий цикл) считается важнее безошибочности. Западные армии увлечены идеей «скорость побеждает».
Это следует из представления о склонности редукционистски сводить «войну» исключительно к операциям, бою или сражению — к подходу, который, как показал Эчеваррия (2014), имел значительное влияние в США.
Введение
Военные организации, которым удаётся внедрять инновации, могут получить решающие преимущества в войне. Можно утверждать, что сопротивление на Украине российскому вторжению было бы трудно поддерживать без подобных инноваций. Учитывая высокую цену вопроса, неудивительно, что военные организации в мирное время тратят миллиарды на организационные и образовательные реформы, создание военных учебных заведений и финансирование исследований. Тем не менее западные военные организации часто критикуют за неспособность к инновациям, быстрому обучению и адаптации к меняющимся обстоятельствам. Почему же военные организации испытывают трудности с инновациями, несмотря на потенциально огромные выгоды?
Научные объяснения неуспехов военных организаций в инновациях варьируются от бюрократической инерции, несовпадения представлений о воинской доблести с характером конкретной инновации, отсутствия процессов обучения, влияния военной культуры и идентичности того или иного вида вооружённых сил — до организационных проблем, включая конкуренцию между видами вооруженных сил. Хотя эти объяснения дают полезные инсайты, у них есть ограничения.
Во‑первых и главным образом, признавая, что критика может стоить отдельному офицеру продвижения по службе, эти работы не учитывают влияние специфического военного «идеала знания». Во‑вторых, методологически исследования почти целиком опираются на одиночные кейсы инноваций в армиях великих держав. Нехватка кросс‑национальных сравнений затрудняет выявление причинных факторов инноваций.
В данной статье предлагается экономное и дополняющее объяснение неудач инноваций. Вкратце: специфический идеал знания, закреплённый в западных военных организациях и далее обозначаемый как ARCH, сдерживает критику и тем самым становится серьёзным препятствием для инноваций. ARCH — это акроним четырёх взаимосвязанных склонностей (action, relevance, conflict, hierarchy — к действию, целесообразности, конфликту и иерархии), которые совместно работают как смыслообразующий механизм, задающий роли и отношения между различными понятиями и категориями знания в военной сфере. В результате ARCH демотивирует критику снизу, затрудняя выдвижение альтернативных представлений о будущей войне и развитие критики как механизма самокоррекции внутри военных организаций. Следует подчеркнуть: военные организации не создавали этот идеал сознательно для подавления критики и инноваций. ARCH отражает определённый способ понимания войны, глубоко укоренённый в современных западных военных организациях. Соответственно, критику и инновации можно рассматривать как «побочный ущерб» попыток оптимизировать военные организации под определённую версию войны.
Для эмпирической проверки отношения военных организаций к знанию применяется тематический анализ военных доктрин США и Швеции в сравнительном исследовании с рассмотрением «наиболее различающихся случаев». Если у столь разных армий выявляются общие черты, есть основания полагать, что они характерны и для других западных военных организаций. Статья вносит вклад в исследования военных инноваций, предлагая экономное базовое объяснение трудностей военных организаций с инновациями. Фокус на понимании знания позволяет обнаружить влияние нематериальных факторов на организационную критику и выявить структурные препятствия инновациям. Это не заменяет существующие «материальные» объяснения, опирающиеся на властные отношения и карьерные возможности в бюрократии, но дополняет их, показывая, как идеалы знания могут влиять на внутренние механизмы военных организаций.
Структура статьи такова. Сначала дан обзор литературы по военным инновациям для оценки текущего состояния знаний. Хотя поле исследований обширно, остаются пробелы в теоретизации механизмов «снизу вверх» и особенно роли критики. Во второй части показано, как критика может влиять на военные инновации. Далее излагается схема исследования с фокусом на том, как идеалы знания «встраиваются» в доктрины. В основной аналитической части выявляются присущие западным военным организациям идеалы знания. В заключении обсуждается, как критика может получить место внутри военных организаций, не нанося ущерба военной эффективности.
Почему это важно
Как отмечает Гриссом (Grissom, 2006), исследования военных инноваций образуют достаточно связное поле, пытающееся объяснить, почему военные организации регулярно терпят неудачи в инновациях, несмотря на очевидную их необходимость. Вместо подготовки к будущей войне они «черствеют» и костенеют, как будто готовятся к прошлой. Таким образом, поле касается ключевой стратегической проблемы, получившей серьёзное академическое внимание и опирающейся на теоретическую проработку и эмпирические данные.
По мнению Гриссома, большинство исследователей явно или неявно понимают инновации как существенные изменения в ведении военных действий, повышающие боевую эффективность. Поэтому проводится различие между повседневным решением задач и «подлинной» инновацией, где последняя означает более глубокую трансформацию (Murray, 2011; Jensen, 2016). Соответственно, литература сосредоточена на случаях, где инновации доказанно повышали эффективность. Например, центром внимания стали внедрение танка и пулемёта, тогда как принятие, вероятно, контрпродуктивных идей (французская оперативная мысль 1940 г.) не попадает под определение «инновации». Также проводится различие между трудностями инноваций в мирное и военное время (Murray & Millett, 1996; Murray, 2011). Часто инновации разделяют на доктринальные и технологические. Эмпирически поле доминируется анализами великих держав, особенно США; редко (например, Raska, 2016) рассматриваются малые государства.
Подавляющее большинство исследований военных инноваций используют структурные подходы; центральная дискуссия — какие именно структурные факторы лучше всего объясняют вариации инноваций. В качестве объяснений предлагаются внешние угрозы (Posen, 1984), межведомственное соперничество (Avant, 1994), бюрократическая инерция (Rosen, 1991), внутриорганизационная конкуренция (Jensen, 2016) и военная культура (Kier, 1997; Farrell & Terriff, 2002; Hill, 2015). Однако, как отмечает Гриссом, существует множество случаев инноваций «снизу вверх», которые структурные теории не объясняют. Фоли (Fauley, 2014) даже предполагает, что немецкая тактическая адаптация зимой 1917 года перед весенним наступлением 1918 года произошла вопреки немецкой военной культуре. Теория давления «снизу вверх» в пользу военных инноваций остаётся не вполне раскрытой.
Стандартный аргумент об организационной инерции прост. Поскольку организации создаются для решения определённой проблемы и их создатели не желают её повторения, организации обычно «спроектированы так, чтобы не меняться», как пишет Розен (Rosen, 1991). Йенсен поясняет: «Большие структуры формируют устойчивые привычки. Такая стандартизация предполагает, что современные военные бюрократии должны сопротивляться изменениям. … Современные вооружённые силы, как и любая бюрократия, — это «железная клетка», склонная вытеснять инновации под предлогом повышения эффективности и поддержания существующих процессов». (Jensen, 2016).
Хэмел также указывает на заинтересованные группы как на препятствие инновациям: «Благоговейное следование прецедентам — великое благо для тех, кто наверху: прецедент защищает их прерогативы. Он вознаграждает навыки, отточенные ими, и знание, приобретённое при управлении «старой машиной». (Hamel, цит. по Price, 2014).
Инновации и критика
Когда Хиршман (Hirshman, 1970) предложил свою классическую идею о том, что индивид, сталкиваясь с подавлением, несправедливостью или неэффективностью, выбирает между «самоустранением» или «возвышением голоса», он не обязательно имел в виду военную сферу. Тем не менее его аргументация релевантна и для военных организаций. «Самоустранение» в форме отставки старших офицеров в ответ на, по их мнению, ошибочные политические решения было предметом серьёзной дискуссии (например, Snider, 2017; Faever, 2017; Kohn, 2017). Обсуждались и случаи наказания гражданским руководством за явное неповиновение (Bessner & Lorber, 2012; Levy, 2016), а также неподчинение, не доходящее до мятежа (Levy, 2017). «Возвышение голоса» же изучено меньше. В литературе его часто отождествляют с политической повесткой военных (например, Urben, 2014), однако здесь под «возвышением голоса» понимается критика снизу внутри вооружённых сил.
Вкратце: критика повышает вероятность инноваций, поскольку позволяет мыслящим критически артикулировать альтернативу текущему порядку. Такие альтернативы невозможны без рефлексивного мышления — умения видеть и понимать основания текущих познавательных претензий. Создавая условия для критического мышления и давая голос альтернативам, критика наделяет организацию механизмом самосовершенствования. Следовательно, критика одновременно проектирует альтернативные будущие и служит инструментом их систематического отделения и оценки: плохие варианты отбрасываются, хорошие — те, что повышают эффективность, — реализуются. Прежде чем описывать границы применимости этой теории, необходимо точнее определить, что понимается под «критикой».
«Критика» происходит от греч. κρῑ́νω (krīnō) — различать, отбирать, судить, решать. И поныне критика «обозначает искусство суждения» (Koselleck, 1988). Если понимать критику как практику вынесения суждения, легко увидеть, почему она порождает разногласия и может противоречить иерархии в организациях. В современной речи критика нередко сводится к констатации плохого — негативным замечаниям, спонтанным, нормативным, эмоциональным. Более развитые формы критики не только указывают на ошибочность/плохое, но и объясняют причины — зачатки анализа. В литературном смысле «критика» часто означает комментарий (обзор, оценку) в области профессиональной компетенции — от еды и вина до искусства; критик опирается на набор правил/схем. В этом ракурсе «критика» и «критика (critique)» — грани одного явления: в основе обе — полемические действия, направленные на объект (поведение или акторов) с вынесением суждения (Koselleck, 1988), соотнесённые с альтернативой существующему положению.
В рамках данной статьи критика понимается как искусство/практика рассмотрения, исследования и оценки. Функционально это форма суждения о текущем порядке/ситуации, призванная показать, как изменить нынешнее состояние для устранения замеченного изъяна. Суждение может выражаться по‑разному: вербально или невербально; конструктивно или нет; явно или имплицитно; формально или неформально. Это определение не противопоставляет спонтанную и обдуманную критику и не фиксирует предмет — конкретный или абстрактный. Критика не равна нытью или брюзжанию и не сводится к грубости: это предложение альтернатив с аргументацией, основанной на доказательствах или логике.
Критика, как поиск изъянов и суждение о текущей практике/доктрине, обычно опирается на понимание того, что работает (в большей или меньшей степени), а что нет. Как отмечает Адамский (Adamsky, 2010): «Способность диагностировать и понимать разрывность природы войны — быстрые изменения способов и средств борьбы — вероятно, ключевой аспект управления обороной». Следовательно, критическое мышление и критика — не просто добавленная ценность, а необходимость для инноваций. Выявление неудач столь же важно, как фиксация успехов: провал часто указывает путь к совершенствованию. Критика — это упражнение в суждении, позволяющее артикулировать альтернативы.
Критическое мышление — необходимая предпосылка критики. Но менять организации способна лишь собственно критика. Как же именно критика «работает» внутри военной организации и каким образом служит инновациям?
Прежде всего, степень допустимости критики в организации — важный индикатор времени и места возникновения инноваций. Критика по определению является механизмом «снизу вверх», но необходимы и стимулы к критике, и институциональные условия её поддерживающие.
Во‑первых, критику следует поощрять, например, выделяя отдельные, но равно (или более того) вознаграждаемые и престижные карьерные треки. Критики действуют как «предприниматели норм» (Bloomfield, 2016) или «программные акторы» (Jensen, 2018), часто становясь главными проводниками инновационных изменений в профессиональных сообществах. Они интерпретируют события, оформляют дискурс, конструируют новые консенсусы. Минимум — критиков не следует наказывать за критику. Бюрократия требует стандартизации; при отсутствии установленного процесса изменений автоматически нет места критике существующего порядка. Иными словами, в крайних случаях нужен «индивидуально сшитый» процесс для критики. Йенсен (Jensen, 2016) фиксирует это условие, объясняя доктринальные реформы через «инкубаторы» и «сетей адвокации».
В так называемых инкубаторах офицерам специально поручают думать о будущей войне и разрабатывать новую адекватную «теорию победы». Получая приказ мыслить свободно, они обходят организационное давление, «заинтересованные» группы и риски наказаний за идеи, не совпадающие с интересами отдельных подразделений. Британский генерал сэр Руперт Смит (Smith, 2007) признавал, что меняться должен и офицерский корпус:
«Это потребует отбора людей с интеллектом и способностями к инновациям в неблагоприятных условиях — вместо «исполнителей», на которых так часто нацелены институциональные системы отбора, особенно в армиях для «индустриальной войны»… Теперь нам нужны инноваторы — умные, практичные, изобретательные и смелые, способные успешно действовать в новых обстоятельствах».
Коэн и Гуч (1991) вынесли жёсткий вердикт британским усилиям в Первую мировую войну из‑за отсутствия критики действий командования: «Покорное послушание подчинённых Хейга… приводило к тому, что офицеры среднего звена предпринимали наступление без тактического или стратегического смысла — верили они в то, что делают, или нет: исполняя приказы, они могли рассчитывать на повышение; делая иначе — наверняка получали отстранение от должности и позор».
В исследовании советских инноваций Кимберли Зиск (1993) также указывает на важность защиты карьерного пути для инноваторов. Адамский (Adamsky, 2010) отмечает, что в СССР «атмосфера не позволяла открыто критиковать старших командиров… Лишь в конце 1980‑х годов видные военные теоретики начали публиковать рефлексивные статьи с критикой советской тактики за ее консерватизм…».
Во‑вторых, организация должна быть восприимчивой к инновациям. По Йенсену (Jensen, 2016), даже породив новую «теорию победы», критика приведёт к реформе лишь при наличии достаточной поддержки в «сетях адвокации».
Иными словами, военным организациям необходимо быть открытыми к критике. Они не должны быть — по Алвессону и Спайсеру (2012) — «функционально глупыми». «Функционально глупая» организация проявляет «неспособность и/или нежелание использовать когнитивные и рефлексивные способности». Напротив, «установка, открытая к критике, поощряет критическое мышление, обсуждение и открытые вопросы». Соответственно, исследование нацелено на выявление базовых идеалов знания в военных организациях, чтобы прояснить структурные препятствия нисходящей критике и критическому мышлению.
Замысел исследования
Для получения обобщений об идеальном понимании знания западными военными организациями и их отношении к нему проведено сравнительное исследование с дизайном «наиболее различающихся случаев» (George & Bennett, 2005). В качестве кейсов выбраны вооружённые силы Швеции и США.
Шведские вооружённые силы могут выставить почти 50 тысяч военнослужащих, США — свыше 2,1 млн (International Institute for Strategic Studies, 2024). Военные расходы Швеции — 11,8 млрд долл., США — около 900 млрд долл. Однако при наличии сходств можно обобщать выводы.
Очевидно также, что вооруженные силы США и Швеции, как и другие западные армии, исторически были вынуждены балансировать между потребностями иерархии сверху и критикой и инновациями снизу. Примеры: Билли Митчелл, «восстание полковников» в Швеции в 2002 году, французская армия середины 1930‑х годов.
Для оценки понимания знания проведён тематический анализ (Braun & Clarke, 2021) объединённой (межвидовой) доктрины, а также доктрин наземной, морской и воздушной. Выбор пал на доктрины, поскольку они представляют «институционализированное знание о том, как, для чего и почему применяется военная сила».
При чтении доктрин внимание уделялось как содержанию (субстантивному знанию), так и отсутствующим элементам. Для выявления идеалов знания искались положения о том, какие виды знания предпочитаются и как принимается решение о корректности знания.
Разумеется, можно ставить под вопрос пригодность доктрин для измерения идеалов знания, указывая, что доктрина не всегда реализуется. Однако наблюдается значительная вариативность. Поэтому в анализе акцент сделан на устойчиво присутствующих в доктринах моментах.
ARCH и как он подавляет критику
В этом разделе представлены результаты. При том что не выявлены прямые и недвусмысленные запреты на критику и критическое мышление, очевидно, что вооруженные силы США и Швеции серьёзно демотивируют критику, закрепляя понимание знания, состоящее из четырёх склонностей ARCH.
В обоих случаях в доктринальных положениях творчество и критическое мышление номинально поощряются. Наиболее явно это выражено в уставе FM 3‑0 сухопутных войск США. Аналогично в шведской доктрине. Однако ограничивая критическое мышление уровнем командующих/командиров, доктрина усиливает иерархию.
По мере продвижения по карьерной лестнице наблюдается постепенное сужение мыслительных рамок, степень единообразия возрастает и четыре склонности ARCH по отдельности и совместно препятствуют критическому мышлению и критике.
Действие предпочтительнее правоты
Первая склонность — это склонность к действию. Военные организации рассматривают знание о войне как нечто, требующее действия. Офицеры рассматриваются как «менеджеры организованного насилия». Приоритет отдается оперативной и боевой подготовке над образованием, инструктажам вместо семинаров, при этом превалирует личный опыт.
Нерешительность признаётся одной из главных проблем. Сухопутные войска США заявляют, что «упорядоченная инициатива требует склонности к действию» (FM 3‑0). Доктрина сухопутных войск Швеции провозглашает, что «нерешительность хуже ошибочного действия». Все принципы войны подчёркивают решительность.
Склонность к действию препятствует критическому мышлению и легитимирует ошибку при условии совершения действия. Скорость в цикле OODA (т.н. петля Бойда или управленческий цикл) считается важнее безошибочности. Западные армии увлечены идеей «скорость побеждает».
Это следует из представления о склонности редукционистски сводить «войну» исключительно к операциям, бою или сражению — к подходу, который, как показал Эчеваррия (2014), имел значительное влияние в США.
Целесообразность важнее качества
Второй компонент идеала знания ARCH — целесообразность. Это акцент на «здесь‑и‑сейчас». Упор на целесообразность — обычно понимаемую как «всё, что требует текущая и будущая война» — отчасти служит усилению склонности к иерархии (см. ниже) и действию (см. выше), а отчасти является самостоятельным ключевым механизмом в нормативном понимании знания в военных организациях.
Доктрины опираются на критерий целесообразности, поскольку ни одна доктрина не может охватить весь спектр возможных способов ведения войны. Осадная война, например, давно исчезла из западных полевых уставов. Учитывая, что сегодня противник редко «заперт в замке», это кажется логичным, — но сокращение диапазона допустимых операций ограничивает рефлексивное мышление.
Целесообразность также выступает главным обоснованием военного поведения и военной мысли. Если то, о чём мы думаем, признаётся целесообразным, дополнительное обоснование и мотивировка становятся излишними. Тем самым целесообразность задаёт пределы глубины и дальности мышления.
Так, шведская доктрина прямо утверждает, что она задаёт, как «следует думать» и фиксирует общие определения понятий (Swedish Armed Forces, 2020). То же признаёт и доктрина США: «Мысли, изложенные здесь, — это не только руководство к действию в бою, но и способ мышления» (US Marine Corps, 2018). Как и в шведском случае, американская доктрина специфицирует понятия, поскольку «значения слов имеют значение» (US Marine Corps, 2018).
Более того, если нечто признано целесообразным, мы склонны неосознанно трактовать это как хорошее и важное знание для «текущей войны». Тем самым склонность к целесообразности усиливает склонность к действию.
Хотя склонность к целесообразности может препятствовать разработке отдельных идей, главное — она влияет на выбор между конкурирующими идеями. Серьёзное отношение к качеству знания предполагало бы рефлексию и критику, что противоречит действующим идеалам знания. В результате приоритет отдается целесообразности в ущерб качеству.
Поскольку решать, что целесообразно, а что нет, вправе прежде всего командующий (командир), одновременно усиливается и склонность к иерархии (см. ниже). Подлежащая логика такова: схемы доминирования и подчинения полезны при решении вопроса, на каком знании следует основывать действия. Это также укрепляет мысль, что не всякий вправе выносить суждения.
Склонность к целесообразности делает идеал знания в военных организациях по природе консервативным. Фактически провозглашая военную профессию единственным арбитром «целесообразности», она закрывает доступ внешним перспективам.
С одной стороны, иные профессии подвержены аналогичным склонностям: их уникальная экспертиза «по определению» делает внешние идеи менее целесообразными. С другой — если позволить профессиональным запросам направлять развитие знания, процесс, вероятно, станет консервативным и менее восприимчивым к фундаментальной критике.
Апелляции к целесообразности «закрывают» мышление, делая ненужным дальнейшее обоснование.
Противопоставление понимается как оппозиция в координатах «мы – они»
Третий компонент ARCH — конфликтность, склонность к бивалентному противопоставлению, из которого вырастают теории и доктрины в координатах «мы — они».
И американская (US Joint Chiefs of Staff, 2023), и шведская доктрины (Swedish Armed Forces, 2021) цитируют изречение Клаузевица, что война «есть акт применения силы, чтобы навязать противнику нашу волю» (Clausewitz, 1993).
Тем самым война осмысливается не как взаимодействие абстрактных акторов, а как противоборство «нас» с «ними». В западных армиях такая рамка по умолчанию помещает саму организацию внутрь противопоставления.
Размышлять о войне — значит имплицитно мыслить, как её участник. Позиция участника затрудняет объективный и рефлексивный анализ войны «как таковой». Ставки теоретизирования возрастают: теоретик больше не беспристрастный наблюдатель. Критически мыслить и критиковать воюющих гораздо легче, когда сам не воюешь.
Самоидентификация как «участника войны» также «заглушает» критиков. Акцент на единоначалие отчётливо прослеживается и в американской, и в шведской доктринах.
Обе системы доктрин тщательно прописывают иерархию документов: стратегические документы должны направлять содержание оперативной доктрины, а оперативная — доктрины видов вооруженных сил (Swedish Armed Forces, 2020; US Joint Chiefs of Staff, 2017).
Поскольку подобная критика по определению предлагает будущее, отличное от проектируемого организацией, она автоматически ставит под вопрос вертикаль управления.
Постоянное саморазмещение «посередь войны» негласно предполагает недопустимость постановки под вопрос решений старших. Альтернатива — рассматривать войну с позиции наблюдателя, а не участника. Находясь «рядом с войной», но не «в ней», легче увидеть альтернативные курсы действий и скрытые допущения.
Участие в войне требует организации. На Западе это, в частности, понимается как стандартизация: типовые структуры корпусов, дивизий, бригад, батальонов, рот, взводов, отделений.
Хотя стандартизация рассматривается как элемент подготовки к войне, она укрепляет управленческую вертикаль, в которой проще поставить мнение критиков под сомнение и тем самым заставить их замолчать. Типовой штаб включает отделы разведывательный, материально-технического обеспечения и т.п., — но не «отдел критики». Иными словами, критическое мышление можно организационно устранить.
Далее, доктрины не только помещают военную организацию «посередь войны»; они также отождествляют войну с боем.
Образы, формулы и, вновь, цитаты из Клаузевица о том, что «война по существу своему это – бой, так как бой – единственный решающий акт многообразной деятельности, разумеющейся под широким понятием воины» (Clausewitz, 1993), закрепляют специфическое понимание войны.
Такое понимание войны не благоприятствует критике и критическому мышлению: бой — это дефицит времени и опасность, требующие послушания и скорости, а не рефлексии и критики.
Находясь «в гуще боя», сложно абстрагироваться от серьёзных юридических последствий за невыполнение решений начальников — они существуют и в США, и в Швеции (Borell, 2004).
Иерархии определяют качество знания
Четвёртая склонность в идеале знания западных военных организаций — склонность к иерархии. Вкратце: верхушка иерархии определяет, что считать знанием, и оценивает его качество.
Это видно в доктринах и Швеции, и США: в предисловиях высшее руководство авторитетно заявляет, что изложенное определяет, как организации следует действовать и мыслить (шведская военно‑стратегическая доктрина 2022 г. подписана тогдашним верховным главнокомандующим; американская JP‑1 2017 г. — Председателем Объединённого комитета начальников штабов).
Генералы также призывают обсуждать доктрину — но обсуждение заранее ограничено: доктрина очерчивает границы допустимого мышления.
Вместо признания знания как предмета расширения, коллегиального обсуждения, условного принятия и непрерывной дискуссии, западные военные организации увязывают качество знания с иерархией.
Это снова отражает то же понимание войны, транслируемое доктринами. Опираясь на Клаузевица, и шведская, и американская доктрины постоянно подчёркивают неопределённость и «трение» войны. Решения должны приниматься несмотря на неопределённость — парадокс, который военная организация «решает» через власть полномочий. Воинское звание определяет, что истинно.
Йенсен (Jensen 2016) также указывает, что «сети адвокации» — это не про отбор и поддержку «правильно предсказанной» будущей теории победы, а про согласование одной версии. Следовательно, выбор будущей реформы — содержания «теории победы» — не зависит от истины.
В какой‑то мере истина непостижима, поскольку будущее ещё не настало. Истину определяют не эмпирика или логика, а легитимность и власть.
Опять же, при высокой цене вопроса незнание, в плане рефлексии на предмет понимания войны, дискомфортно. А вот когда «наверху» кто‑то с полномочиями заявляет, что истина такова, это привносит онтологическую безопасность.
Тогда отпадает потребность в критическом мышлении и критике, как и в конкурирующих картинах будущего и сложностях выбора между ними. Командующий (командир) решает, что считать истинным знанием. Решая вопрос о знании, тем самым предполагают, что знание может быть окончательным. «Всё уже известно — и точка».
Иерархическое понимание знания также предполагает, что мерой прогресса является процесс, а не результат. В доктрине сухопутных войск Швеции прямо подчёркнуто: «всякая деятельность нуждается в командующем (командире)».
Акцент на управлении войсками и силами (включая контроль знания) подавляет дискуссию — а значит, и непредрешенные ее результаты. Такой способ мышления укрепляет иерархию доминирования и подчинения.
Он даёт командующему (командиру) возможность поставить критика на место простым вопросом: «Кто уполномочил вас это говорить/спрашивать?»
Достаточно бегло взглянуть на процедуры планирования (тоже, между прочим, руководящий документ), чтобы увидеть, как предписывается определённый способ мышления, отбивающий охоту к альтернативному образу мысли.
Создание и поддержание онтологической безопасности через подтверждение статуса командующего (командира), как арбитра истины, отчётливо видно в исследованных доктринах.
Обе подчёркивают критическое значение командирских качеств для эффективности и успеха (US Army, 2022; Swedish Armed Forces, 2021). Чем сильнее акцент на командирских качествах, тем больше подавляется критическое мышление, поскольку командирские качества автоматически подкрепляют модель доминирования и подчинения — то есть представление, что командир «всё решит» и определит истину.
Заключительные соображения: потенциал критического мышления
В статье высказано допущение, что инновациям в западных военных организациях препятствуют определённые базовые идеалы знания, конфликтующие с критикой.
Критика обладает существенным инновационным потенциалом, поскольку позволяет мыслить рефлексивно и артикулировать альтернативы существующему порядку; без способности видеть и понимать основания текущих познавательных претензий такие альтернативы не возникают.
Создавая условия для критической рефлексии и предоставляя возможность выражать отличные друг от друга взгляды, критика вводит в организацию динамику самокоррекции. Она одновременно помогает проектировать альтернативные варианты будущего и указывает на системный способ их оценки.
Анализ доктрин США и Швеции показывает, что специфический идеал знания военных организаций (обозначенный здесь как ARCH — взаимно усиливающие склонности к действию, целесообразности, конфликту и иерархии) существенно препятствует инновациям, подавляя критику.
Возникновение этого идеала нельзя объяснять целенаправленным желанием военных организаций подавлять критику и инновации; он отражает определённый способ понимания войны, глубоко укоренённый в вооружённых силах стран Запада, — акцент на массирование сил и средств, сосредоточение усилий и стандартизацию.
Соответственно, критику и инновации можно понимать как «сопутствующие потери» в попытках оптимизировать военную организацию под индустриализированный крупномасштабный вариант войны.
Допущение критики переупорядочит структуры «власть—знание», ныне поддерживаемые идеалом ARCH. Это делает критику более фундаментальной трансгрессией, нежели простое неподчинение.
Однако конкретное проявление этих проблем требует дальнейших исследований. Неизвестно, поощряется ли или наказывается критика в зависимости от контекста, воинского звания, выслуги лет, пола, возраста, вида вооруженных сил или корпоративной культуры.
Кроме того, неизвестно, по‑разному ли работают познавательные претензии в штабах и у штатных подразделений; и у штабных работников, вероятно, более высокий уровень работы с доктриной, чем у линейных.
Наконец и главное: недостаточно понятно, насколько глубоко идеалы знания переплетены с другими господствующими мыслительными паттернами в военных организациях.
Например, как идеалы знания связаны с профессиональной военной идентичностью или организационной культурой?
Возможно, было бы чрезмерным надеяться на то, что военные организации примут критику в той же мере, что университеты или научно-исследовательские организации. Но они, как минимум, должны стремиться не самоорганизовываться так, чтобы блокировать инновации, способные повысить их боевой потенциал.
В этой связи выделяются три момента.
Во‑первых, важно избегать ложных дихотомий. Не обязательно выбирать между инновациями через допуск критики и ростом эффективности поражающего действия оружия или, шире, эффективности применения вооруженных сил.
Во многих контекстах профессиональная военная идентичность описывается как «менеджер организованного насилия». Слишком часто это понимают буквально: офицер непосредственно вовлечён в насилие — следовательно, его сфера — тактика, а не стратегия.
Разрыв тактики и стратегии — типичный пример ложной дихотомии, что, вероятно, имело катастрофические последствия в Первую мировую войну, когда стратегия не направляла тактику.
Хотя делать однозначные выводы из текущей войны на Украине трудно, обе стороны, по‑видимому, сочетают инновации с крупномасштабной индустриализированной войной непривычными и различными способами.
Во‑вторых, военная профессия — как это уже имеет место в случае других профессий — должна структурировать «большую сделку» и определить условия и конкретные ситуации, где критика допустима.
Формирование пространства для критики и принятие её институционально позволит внедрять инновации без угрозы карьере отдельных критиков и без обязательного вызова существующим бюрократическим структурам власти.
Профессиональное военное образование, вероятнее всего, сыграет центральную роль в формировании личного отношения к критике. В большинстве (если не во всех) военных учебных заведений требуется баланс между «подготовкой» и «образованием».
Это естественно для любой специальности: нужно усвоить известный порядок действий и выработать технические навыки вместе с аналитическими. Возможно, военным учебным заведениям стоит переосмыслить соотношение учебного времени, выделяемого на различные аспекты учебной программы и обратить внимание на способы поощрения/сдерживания критики; это может иметь долгосрочные последствия внутри военной организации.
Речь не обязательно о пересмотре пропорций — важно недвусмысленно донести до сознания обучаемых: при том что критика занимает центральное место в их профессии, она уместна не везде и не всегда.
На данный момент трудно дать подтвержденные примерами из жизни рекомендации о конкретной точке равновесия, хотя ряд авторов полагают, что в целом (если не в каждом частном случае) эффективность выше там, где больше «образования» и меньше «подготовки» (Mukherjee, 2018).
В‑третьих, хотя профессиональное военное образование развивает критическое и творческое мышление офицеров, для критики также нужны индивидуальность, принципиальность и значительная доля того, что немцы называют Fingerspitzengefühl (тонкого профессионального чутья), дабы ориентироваться в зачастую неочевидных нормах уместности критики по времени и форме.
Критически важно формировать культуру, в которой критика не считается неподчинением или нелояльностью, а воспринимается как попытка повысить эффективность военной организации.
Разумеется, это нелегко, и в конкурентных иерархических системах, вроде военных организаций, высок риск, что сплочённость и единообразие перевесят возможности индивидуумов высказывать критику.
Первым шагом может быть признание того, как идеалы знания отражают и усиливают определённые «режимы ведения войны» (по Schmitt, 2020), и начало пересмотра отношения к критике в зависимости от теории победы организации в будущей войне.
Оригинал статьи
Второй компонент идеала знания ARCH — целесообразность. Это акцент на «здесь‑и‑сейчас». Упор на целесообразность — обычно понимаемую как «всё, что требует текущая и будущая война» — отчасти служит усилению склонности к иерархии (см. ниже) и действию (см. выше), а отчасти является самостоятельным ключевым механизмом в нормативном понимании знания в военных организациях.
Доктрины опираются на критерий целесообразности, поскольку ни одна доктрина не может охватить весь спектр возможных способов ведения войны. Осадная война, например, давно исчезла из западных полевых уставов. Учитывая, что сегодня противник редко «заперт в замке», это кажется логичным, — но сокращение диапазона допустимых операций ограничивает рефлексивное мышление.
Целесообразность также выступает главным обоснованием военного поведения и военной мысли. Если то, о чём мы думаем, признаётся целесообразным, дополнительное обоснование и мотивировка становятся излишними. Тем самым целесообразность задаёт пределы глубины и дальности мышления.
Так, шведская доктрина прямо утверждает, что она задаёт, как «следует думать» и фиксирует общие определения понятий (Swedish Armed Forces, 2020). То же признаёт и доктрина США: «Мысли, изложенные здесь, — это не только руководство к действию в бою, но и способ мышления» (US Marine Corps, 2018). Как и в шведском случае, американская доктрина специфицирует понятия, поскольку «значения слов имеют значение» (US Marine Corps, 2018).
Более того, если нечто признано целесообразным, мы склонны неосознанно трактовать это как хорошее и важное знание для «текущей войны». Тем самым склонность к целесообразности усиливает склонность к действию.
Хотя склонность к целесообразности может препятствовать разработке отдельных идей, главное — она влияет на выбор между конкурирующими идеями. Серьёзное отношение к качеству знания предполагало бы рефлексию и критику, что противоречит действующим идеалам знания. В результате приоритет отдается целесообразности в ущерб качеству.
Поскольку решать, что целесообразно, а что нет, вправе прежде всего командующий (командир), одновременно усиливается и склонность к иерархии (см. ниже). Подлежащая логика такова: схемы доминирования и подчинения полезны при решении вопроса, на каком знании следует основывать действия. Это также укрепляет мысль, что не всякий вправе выносить суждения.
Склонность к целесообразности делает идеал знания в военных организациях по природе консервативным. Фактически провозглашая военную профессию единственным арбитром «целесообразности», она закрывает доступ внешним перспективам.
С одной стороны, иные профессии подвержены аналогичным склонностям: их уникальная экспертиза «по определению» делает внешние идеи менее целесообразными. С другой — если позволить профессиональным запросам направлять развитие знания, процесс, вероятно, станет консервативным и менее восприимчивым к фундаментальной критике.
Апелляции к целесообразности «закрывают» мышление, делая ненужным дальнейшее обоснование.
Противопоставление понимается как оппозиция в координатах «мы – они»
Третий компонент ARCH — конфликтность, склонность к бивалентному противопоставлению, из которого вырастают теории и доктрины в координатах «мы — они».
И американская (US Joint Chiefs of Staff, 2023), и шведская доктрины (Swedish Armed Forces, 2021) цитируют изречение Клаузевица, что война «есть акт применения силы, чтобы навязать противнику нашу волю» (Clausewitz, 1993).
Тем самым война осмысливается не как взаимодействие абстрактных акторов, а как противоборство «нас» с «ними». В западных армиях такая рамка по умолчанию помещает саму организацию внутрь противопоставления.
Размышлять о войне — значит имплицитно мыслить, как её участник. Позиция участника затрудняет объективный и рефлексивный анализ войны «как таковой». Ставки теоретизирования возрастают: теоретик больше не беспристрастный наблюдатель. Критически мыслить и критиковать воюющих гораздо легче, когда сам не воюешь.
Самоидентификация как «участника войны» также «заглушает» критиков. Акцент на единоначалие отчётливо прослеживается и в американской, и в шведской доктринах.
Обе системы доктрин тщательно прописывают иерархию документов: стратегические документы должны направлять содержание оперативной доктрины, а оперативная — доктрины видов вооруженных сил (Swedish Armed Forces, 2020; US Joint Chiefs of Staff, 2017).
Поскольку подобная критика по определению предлагает будущее, отличное от проектируемого организацией, она автоматически ставит под вопрос вертикаль управления.
Постоянное саморазмещение «посередь войны» негласно предполагает недопустимость постановки под вопрос решений старших. Альтернатива — рассматривать войну с позиции наблюдателя, а не участника. Находясь «рядом с войной», но не «в ней», легче увидеть альтернативные курсы действий и скрытые допущения.
Участие в войне требует организации. На Западе это, в частности, понимается как стандартизация: типовые структуры корпусов, дивизий, бригад, батальонов, рот, взводов, отделений.
Хотя стандартизация рассматривается как элемент подготовки к войне, она укрепляет управленческую вертикаль, в которой проще поставить мнение критиков под сомнение и тем самым заставить их замолчать. Типовой штаб включает отделы разведывательный, материально-технического обеспечения и т.п., — но не «отдел критики». Иными словами, критическое мышление можно организационно устранить.
Далее, доктрины не только помещают военную организацию «посередь войны»; они также отождествляют войну с боем.
Образы, формулы и, вновь, цитаты из Клаузевица о том, что «война по существу своему это – бой, так как бой – единственный решающий акт многообразной деятельности, разумеющейся под широким понятием воины» (Clausewitz, 1993), закрепляют специфическое понимание войны.
Такое понимание войны не благоприятствует критике и критическому мышлению: бой — это дефицит времени и опасность, требующие послушания и скорости, а не рефлексии и критики.
Находясь «в гуще боя», сложно абстрагироваться от серьёзных юридических последствий за невыполнение решений начальников — они существуют и в США, и в Швеции (Borell, 2004).
Иерархии определяют качество знания
Четвёртая склонность в идеале знания западных военных организаций — склонность к иерархии. Вкратце: верхушка иерархии определяет, что считать знанием, и оценивает его качество.
Это видно в доктринах и Швеции, и США: в предисловиях высшее руководство авторитетно заявляет, что изложенное определяет, как организации следует действовать и мыслить (шведская военно‑стратегическая доктрина 2022 г. подписана тогдашним верховным главнокомандующим; американская JP‑1 2017 г. — Председателем Объединённого комитета начальников штабов).
Генералы также призывают обсуждать доктрину — но обсуждение заранее ограничено: доктрина очерчивает границы допустимого мышления.
Вместо признания знания как предмета расширения, коллегиального обсуждения, условного принятия и непрерывной дискуссии, западные военные организации увязывают качество знания с иерархией.
Это снова отражает то же понимание войны, транслируемое доктринами. Опираясь на Клаузевица, и шведская, и американская доктрины постоянно подчёркивают неопределённость и «трение» войны. Решения должны приниматься несмотря на неопределённость — парадокс, который военная организация «решает» через власть полномочий. Воинское звание определяет, что истинно.
Йенсен (Jensen 2016) также указывает, что «сети адвокации» — это не про отбор и поддержку «правильно предсказанной» будущей теории победы, а про согласование одной версии. Следовательно, выбор будущей реформы — содержания «теории победы» — не зависит от истины.
В какой‑то мере истина непостижима, поскольку будущее ещё не настало. Истину определяют не эмпирика или логика, а легитимность и власть.
Опять же, при высокой цене вопроса незнание, в плане рефлексии на предмет понимания войны, дискомфортно. А вот когда «наверху» кто‑то с полномочиями заявляет, что истина такова, это привносит онтологическую безопасность.
Тогда отпадает потребность в критическом мышлении и критике, как и в конкурирующих картинах будущего и сложностях выбора между ними. Командующий (командир) решает, что считать истинным знанием. Решая вопрос о знании, тем самым предполагают, что знание может быть окончательным. «Всё уже известно — и точка».
Иерархическое понимание знания также предполагает, что мерой прогресса является процесс, а не результат. В доктрине сухопутных войск Швеции прямо подчёркнуто: «всякая деятельность нуждается в командующем (командире)».
Акцент на управлении войсками и силами (включая контроль знания) подавляет дискуссию — а значит, и непредрешенные ее результаты. Такой способ мышления укрепляет иерархию доминирования и подчинения.
Он даёт командующему (командиру) возможность поставить критика на место простым вопросом: «Кто уполномочил вас это говорить/спрашивать?»
Достаточно бегло взглянуть на процедуры планирования (тоже, между прочим, руководящий документ), чтобы увидеть, как предписывается определённый способ мышления, отбивающий охоту к альтернативному образу мысли.
Создание и поддержание онтологической безопасности через подтверждение статуса командующего (командира), как арбитра истины, отчётливо видно в исследованных доктринах.
Обе подчёркивают критическое значение командирских качеств для эффективности и успеха (US Army, 2022; Swedish Armed Forces, 2021). Чем сильнее акцент на командирских качествах, тем больше подавляется критическое мышление, поскольку командирские качества автоматически подкрепляют модель доминирования и подчинения — то есть представление, что командир «всё решит» и определит истину.
Заключительные соображения: потенциал критического мышления
В статье высказано допущение, что инновациям в западных военных организациях препятствуют определённые базовые идеалы знания, конфликтующие с критикой.
Критика обладает существенным инновационным потенциалом, поскольку позволяет мыслить рефлексивно и артикулировать альтернативы существующему порядку; без способности видеть и понимать основания текущих познавательных претензий такие альтернативы не возникают.
Создавая условия для критической рефлексии и предоставляя возможность выражать отличные друг от друга взгляды, критика вводит в организацию динамику самокоррекции. Она одновременно помогает проектировать альтернативные варианты будущего и указывает на системный способ их оценки.
Анализ доктрин США и Швеции показывает, что специфический идеал знания военных организаций (обозначенный здесь как ARCH — взаимно усиливающие склонности к действию, целесообразности, конфликту и иерархии) существенно препятствует инновациям, подавляя критику.
Возникновение этого идеала нельзя объяснять целенаправленным желанием военных организаций подавлять критику и инновации; он отражает определённый способ понимания войны, глубоко укоренённый в вооружённых силах стран Запада, — акцент на массирование сил и средств, сосредоточение усилий и стандартизацию.
Соответственно, критику и инновации можно понимать как «сопутствующие потери» в попытках оптимизировать военную организацию под индустриализированный крупномасштабный вариант войны.
Допущение критики переупорядочит структуры «власть—знание», ныне поддерживаемые идеалом ARCH. Это делает критику более фундаментальной трансгрессией, нежели простое неподчинение.
Однако конкретное проявление этих проблем требует дальнейших исследований. Неизвестно, поощряется ли или наказывается критика в зависимости от контекста, воинского звания, выслуги лет, пола, возраста, вида вооруженных сил или корпоративной культуры.
Кроме того, неизвестно, по‑разному ли работают познавательные претензии в штабах и у штатных подразделений; и у штабных работников, вероятно, более высокий уровень работы с доктриной, чем у линейных.
Наконец и главное: недостаточно понятно, насколько глубоко идеалы знания переплетены с другими господствующими мыслительными паттернами в военных организациях.
Например, как идеалы знания связаны с профессиональной военной идентичностью или организационной культурой?
Возможно, было бы чрезмерным надеяться на то, что военные организации примут критику в той же мере, что университеты или научно-исследовательские организации. Но они, как минимум, должны стремиться не самоорганизовываться так, чтобы блокировать инновации, способные повысить их боевой потенциал.
В этой связи выделяются три момента.
Во‑первых, важно избегать ложных дихотомий. Не обязательно выбирать между инновациями через допуск критики и ростом эффективности поражающего действия оружия или, шире, эффективности применения вооруженных сил.
Во многих контекстах профессиональная военная идентичность описывается как «менеджер организованного насилия». Слишком часто это понимают буквально: офицер непосредственно вовлечён в насилие — следовательно, его сфера — тактика, а не стратегия.
Разрыв тактики и стратегии — типичный пример ложной дихотомии, что, вероятно, имело катастрофические последствия в Первую мировую войну, когда стратегия не направляла тактику.
Хотя делать однозначные выводы из текущей войны на Украине трудно, обе стороны, по‑видимому, сочетают инновации с крупномасштабной индустриализированной войной непривычными и различными способами.
Во‑вторых, военная профессия — как это уже имеет место в случае других профессий — должна структурировать «большую сделку» и определить условия и конкретные ситуации, где критика допустима.
Формирование пространства для критики и принятие её институционально позволит внедрять инновации без угрозы карьере отдельных критиков и без обязательного вызова существующим бюрократическим структурам власти.
Профессиональное военное образование, вероятнее всего, сыграет центральную роль в формировании личного отношения к критике. В большинстве (если не во всех) военных учебных заведений требуется баланс между «подготовкой» и «образованием».
Это естественно для любой специальности: нужно усвоить известный порядок действий и выработать технические навыки вместе с аналитическими. Возможно, военным учебным заведениям стоит переосмыслить соотношение учебного времени, выделяемого на различные аспекты учебной программы и обратить внимание на способы поощрения/сдерживания критики; это может иметь долгосрочные последствия внутри военной организации.
Речь не обязательно о пересмотре пропорций — важно недвусмысленно донести до сознания обучаемых: при том что критика занимает центральное место в их профессии, она уместна не везде и не всегда.
На данный момент трудно дать подтвержденные примерами из жизни рекомендации о конкретной точке равновесия, хотя ряд авторов полагают, что в целом (если не в каждом частном случае) эффективность выше там, где больше «образования» и меньше «подготовки» (Mukherjee, 2018).
В‑третьих, хотя профессиональное военное образование развивает критическое и творческое мышление офицеров, для критики также нужны индивидуальность, принципиальность и значительная доля того, что немцы называют Fingerspitzengefühl (тонкого профессионального чутья), дабы ориентироваться в зачастую неочевидных нормах уместности критики по времени и форме.
Критически важно формировать культуру, в которой критика не считается неподчинением или нелояльностью, а воспринимается как попытка повысить эффективность военной организации.
Разумеется, это нелегко, и в конкурентных иерархических системах, вроде военных организаций, высок риск, что сплочённость и единообразие перевесят возможности индивидуумов высказывать критику.
Первым шагом может быть признание того, как идеалы знания отражают и усиливают определённые «режимы ведения войны» (по Schmitt, 2020), и начало пересмотра отношения к критике в зависимости от теории победы организации в будущей войне.
Оригинал статьи
Вас может заинтересовать
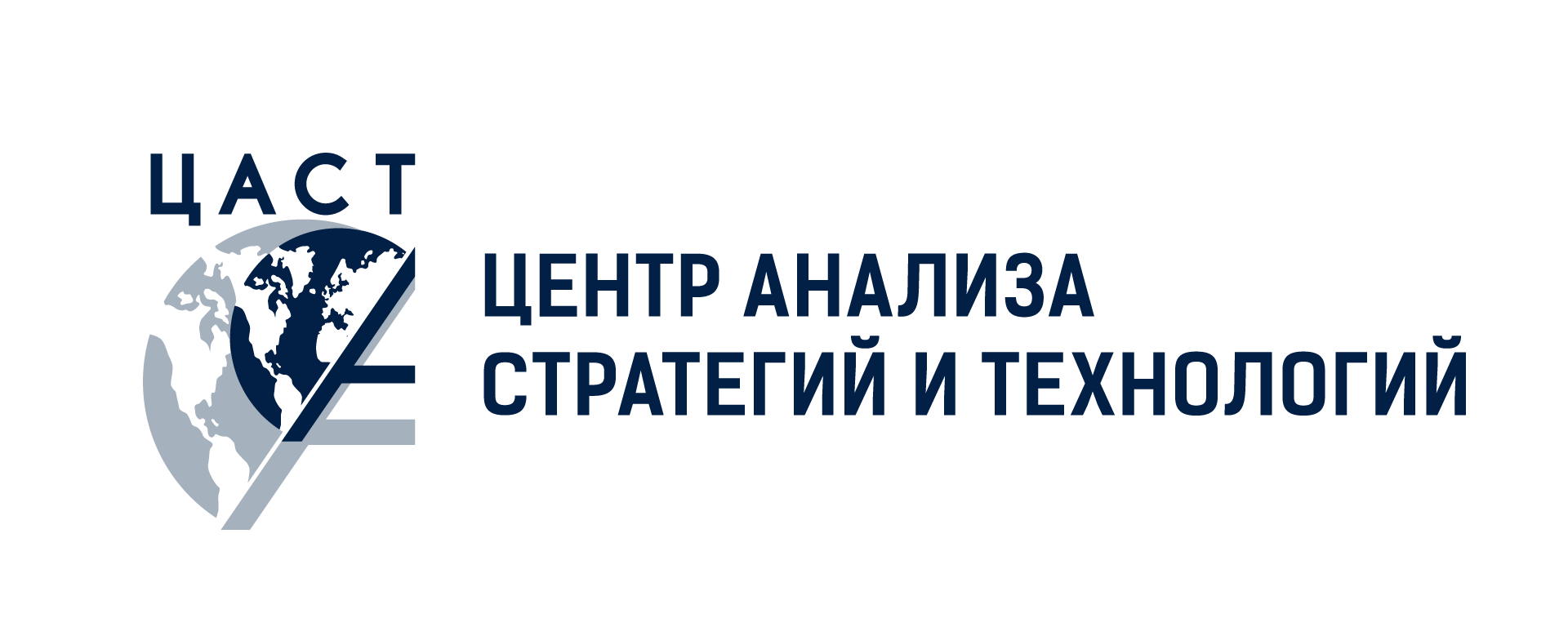
Центр анализа стратегий и технологий "ЦАСТ"
ИНН 7743366760
г. Москва, ул . 3-я Тверская-Ямская, 24, офис 5
+7 (499) 251-90-69
books@cast.ru
